Глава 9. Бургундия «Беф бургиньон»[326]
Глава 9. Бургундия «Беф бургиньон»[326]

В первый раз попытка найти его обернулась провалом. Я шла по улице Л’Юниверсите, адрес был нацарапан на обрывке бумаги, который лежал в моем кармане. Когда я нашла этот дом, то перешла на другую сторону улицы и присела, чтобы здание полностью поместилось в объектив моей фотокамеры. Однако, вернувшись домой, я обнаружила, что фотография исчезла. Может быть, я перепутала сон и явь. Потом я поняла, что и адрес-то был неверный.
Когда несколько недель спустя я совершила вторую попытку, то была более предусмотрительна: спланировала маршрут заранее. В тот день я действительно нашла многоквартирный дом № 81 по улице Л’Юниверсите, скромное четырехэтажное здание XIX века из белого камня с высокими узкими окнами и двумя солидными темно-синими деревянными дверями. Окна здания выходили на маленькую place[327], крохотный зацементированный треугольник, уставленный мотороллерами. Рядом с домом находилось кафе: стены потемнели от копоти, а оцинкованная барная стойка выглядела так, как будто застыла в янтаре. Я не нашла таблички с указанием, что она жила в этом доме, но мне легко было представить, как она возвращается сюда с рынка с тяжелой плетеной корзиной на локте, сгорающая от нетерпения запереться на кухне и начать готовить. Квартира, без сомнения, принадлежала когда-то Джулии Чайлд.
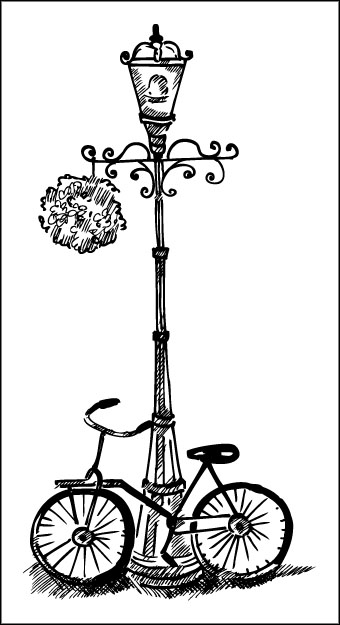
Я вспомнила о Джулии, потому что хотела приготовить «беф бургиньон» – блюдо, сделавшее ее знаменитой. Начался март, и погода была такой ветреной и неукротимой, что вспоминался лев из притчи[328]. Но я уже подмечала набухшие соцветия форзиции[329] на клумбах, разбитых по центру моей улицы, и они для меня были материальным доказательством того, что весна – а вместе с ней и возвращение Кельвина из Ирака – уже не за горами, и наш год в разлуке почти подошел к концу. Я ожидала нашего воссоединения с ничем не омраченным счастьем. Но нам предстояло прожить еще несколько месяцев друг без друга.
Несколько недель назад я получила заказ от New York Times – той самой New York Times! У меня на лбу выступал пот всякий раз, когда я начинала думать об этом: мне заказали статью для рубрики о путешествиях, прослеживающую путь Томаса Джефферсона[330] по виноградникам Бургундии в 1787 году. Главной темой должно было быть вино, но, упаковывая чемодан для поездки в Кот-д’Ор (на этой узкой полоске земли производят лучшие марочные вина, которыми знаменит регион), я то и дело возвращалась к мыслям о «беф бургиньон».
Тушеная в вине говядина была одним из первых блюд, приготовленных Джулией Чайлд перед телекамерой: с него начался первый выпуск ее программы The French Chef[331].
Для Джулии блюдо «беф бургиньон» было удобным учебным материалом с точки зрения техник обработки пищи, принятых во французской кулинарии.
На его примере можно было показать, как обжаривать и тушить мясо, как пассеровать грибы и как делать высококачественный соус.
Но за последние годы блюдо приобрело ореол изысканности и для многих американцев превратилось из скромной тушеной говядины в символ французской кухни. Вместе с тем мы очень мало знаем о его происхождении. Теперь у меня возникла возможность посетить Бургундию и узнать всю правду о «беф бургиньон». И хотя я путешествовала в одиночку, в моих ушах постоянно звучали два голоса – Джулии и Джефферсона, двух американцев, разделенных столетиями и объединенных чувством восхищения, которое они оба испытывали к этому региону.
Поездка за рулем из Парижа в Бон, винную столицу Бургундии, занимает около четырех часов, в течение которых я непрерывно выжимала педаль газа, следуя по национальному шоссе A6. Даже если бы я не следовала указаниям GPS, как слову пророка, я догадалась бы, что приехала в Кот-д’Ор, по пологим, увитым виноградником склонам, поднимающимся по обеим сторонам шоссе. Хотя территория региона Бургундия достаточно обширна, виноградники сконцентрированы на узкой полоске земли, магическим образом идеально подходящей для их культивирования во всем, начиная от микроклимата и холмов с необходимым углом наклона и заканчивая каменистой, ржаво-коричневой, богатой минералами почвы. Говоря «терруар» (это слово переводится как «земля»), французы имеют в виду особое сочетание климата, почвы, географии, видов растений и сельскохозяйственных техник. Если бы мне нужно было выбрать одно место на Земле, которое исчерпывающе иллюстрирует этот термин, то я бы склонилась к Кот-д’Ор, в котором более ста апелласьонов[332] умещаются на территории, составляющей половину площади Нью-Йорк Сити, а одни и те же разновидности лозы культивируются и превращаются в ви?на уже почти тысячу лет.
По легенде, у истоков винодельческих традиций Бургундии стояли монахи XI века, которые возделали землю, опробовали разные сорта лозы и усовершенствовали техники виноградарства. Они разделили Кот-д’Ор на Кот-де-Нюи и Кот-де-Бон (cote означает «холм») и переходили от склона к склону, смешивая почву с водой, чтобы изучить характеристики терруара. Они первыми заметили то, что с соседних участков земли можно собрать виноград, кардинально отличающийся по вкусу, и составили карту этих участков – апелласьонов, – которые остаются таковыми и по сей день.
Монахи принадлежали к двум разным орденам: попустительский бенедиктинский и строгий цистерцианский. Аббатство бенедиктинцев было расположено к югу, в Клюни. Цистерцианцы, чей «штаб» располагался ближе к Кот-д’Ор, в Сито, были, по иронии судьбы, аскетами: им запрещалось есть мясо, яйца, рыбу и молочные продукты, а также пить что-либо кроме воды (хотя дегустация производимого вина не подпадала под запрет). Для цистерцианцев вино было чисто коммерческим предприятием, с помощью вырученных средств содержались их монастыри, а также оплачивались политические услуги.
В Средние века Бургундия не была частью Франции – это было могущественное и независимое герцогство, граничившее с Фландрией и Нидерландами и управляемое родом герцогов с именами как у супергероев: Филипп ле Арди (Смелый), Жан сан Пер (Бесстрашный), Филипп ле Бон (Добрый), Шарль ле Темерер (Отважный). Первому из них, Филиппу Смелому, вполне подошло бы имя Филипп Винолюбивый. Как искушенный энофил[333], он навсегда определил участь бургундского вина, приказав вырвать лозу сорта Гаме?, объявив ее «вероломной», и вместо этого засадить регион сортом Пино-Нуар. Этот указ был издан в 1395 году, и он все еще остается в силе. Сейчас в Кот-д’Ор выращивают только два сорта лозы: Пино-Нуар для красных вин и Шардоне для белых.
Именно эти растения, привязанные к шпалерам из дерева и проволоки, я и увидела на холмах вдоль дороги. В холодные и влажные дни ранней весны ландшафт был гол, обнажая знаменитые красноватые почвы региона в основании ровных рядов коротких черных узловатых стволов. Но даже в нагом спящем виде виноградники выглядели ухоженными, аккуратно подстриженными, терпеливо ожидающими потепления, для того чтобы произвести на свет листья, цветы и плоды.
Ряды лозы, поднимающиеся вдоль склона, показались мне, по неопытности, одним большим виноградником. Однако в реальности мой взгляд охватывал десятки, если не сотни, частных владений, по традиции не разграниченных ни стенами, ни заборами. До Великой французской революции бо?льшая часть бургундских виноградников была поделена между несколькими богатыми землевладельцами, самым крупным из которых являлась католическая церковь. Ситуация изменилась в 1790 году, когда церковные земли были объявлены национальной собственностью и распроданы; огромные площади были поделены на много мелких участков.
На сегодняшний день Бургундия остается регионом виноградников скромного размера (некоторые из них не больше, чем частный садик), находящихся в собственности у независимых производителей, а не крупных монополистов.
В Боне меня восхитил лоск процветания: hotels particuliers из полированного камня с хорошо сохранившимися двориками, крыши, покрытые геометрическим узором цветной черепицы, средневековые крепостные стены, проходящие по краю ухоженных улиц с поблескивающими витринами винных магазинов и fromageries[334]. Иностранцы толпятся тут в любое время года: непрекращающийся поток туристов сделал местных жителей скуповатыми на гостеприимство. Я сидела в одном из кафе и наблюдала за группой британских туристов, намеревавшихся отведать стаканчик местного увеселительного напитка. Официант привычно отбарабанил названия вин в дегустационных бокалах: Жевре-Шамбертен, Мерсо, Нюи-Сен-Жорж – и англичане от неожиданности раскрыли рты. Если честно, я тоже: нечасто услышишь столько знаменитых имен в повседневной обстановке. Впечатление было такое, как когда видишь среди прохожих знаменитость.

Через некоторое время мне подвернулся шанс продегустировать вино с Тибо Марьяном, молодым виноделом и владельцем Domaine Seguin-Manuel, винодельческого завода в Боне. Семья Тибо производит вино начиная с 1750 года, но он приобрел собственный бизнес гораздо позднее, в 2004-м. Мы расположились у него в офисе, разделенные длинным рядом бутылок – это была примерно половина из двадцати апелласьонов, производимых предприятием, – и Тибо начал разливать вино. Сначала белые: золотистые, искрящиеся, цветочные, с минеральным привкусом. Он описывал каждое из вин с гордостью нежного отца. Мы рассматривали вино на свет, делали глоток, набирали в рот воздух, перемещали вино по всей поверхности рта – вообще-то я просто повторяла за Тибо, отставая на полшага, – а затем выплевывали. Я ожидала этой процедуры, но меня все равно чуть не вывернуло над терракотовым кувшином. Можно ли распробовать вино, не глотая? Я вспомнила о своей машине, припаркованной несколькими кварталами ниже, и опрокинула остатки вина из бокала в crachoir[335]. Тибо быстро налил из другой бутылки.
Винный завод Тибо – маленький и почти кустарный. Он производит порядка семидесяти тысяч бутылок в год, его производственный цикл, как и у многих независимых производителей в регионе, связан с возможностями органического земледелия и лунными циклами розлива, благодаря чему вино получается «более чистое, более свежее и легкое и лучше выдерживается», сказал он. Мы закончили дегустацию белых вин и перешли к красным. До этого момента мы не меняли бокалов, но Тибо заметил легкий осадок на дне моего.
«Я принесу вам чистый бокал», – сказал он.
«О нет, не беспокойтесь, можно просто ополоснуть его водой».
«Водой?» – Выражение ужаса промелькнуло на его патрицианском лице. – «Non, non, мы воспользуемся вином». – Он протянул руку к одной из бутылок белого, налил в бокал немного вина, тщательно его сполоснул и вылил вино в crachoir.
Такова Бургундия: вино здесь заменяет воду.
В марте 1787 года Томас Джефферсон выехал из Парижа в трехмесячное путешествие по Франции. Официальной целью поездки было лечение сломанного запястья на минеральных водах в Экс-ан-Провансе. По пути он планировал выполнять свои обязанности в качестве главного дипломатического представителя Америки, в частности, изучать сельскохозяйственные, архитектурные и инженерные проекты Франции. Но когда он сказал, что хочет начать поездку с виноградников Бургундии, его дочь Марта что-то заподозрила.
«Я склонна думать, что твоя поездка – скорее увеселительного, чем оздоровительного характера», – дразнит она его в письме.
На самом деле пятидневное пребывание Джефферсона в Бургундии было обусловлено серьезными причинами. Он провел около двух лет при дворе Людовика XVI и попробовал львиную долю знаменитых первоклассных вин. Его идея заключалась в том, чтобы, побывав в погребах и на винодельнях Кот-д’Ор, узнать секреты винодельческого искусства и затем применить его в Виргинии, а также попробовать вина региона, знаменитого – уже в конце восемнадцатого века – своим терруаром.
Томас Джефферсон, привлекательный сорокалетний вдовец с двумя юными дочерьми, впервые прибыл во Францию тремя годами раньше.
Он был назначен Конгрессом в помощь Джону Адамсу и Бенджамину Франклину, которого он сменил на посту полномочного представителя. Джефферсон, чья жена умерла два года назад, с детства мечтал жить в Европе. Он нашел жилье в одном из больших особняков и переехал с дочерью Мартой и рабом Джеймсом Хемингсом (его младшая дочь Мария присоединилась к нему в 1787 году в сопровождении рабыни Салли Хемингс). Джефферсон вскоре начал вращаться в кругах богемы – художников и интеллектуалов. В это время он познакомился с Марией Косуэй, актрисой, рожденной в Италии в семье англичан, и ее мужем Ричардом Косуэем, известным миниатюристом и портретистом.
Дружба (или роман, кто знает?) между Джефферсоном и Марией продолжалась более шести недель. Они встречались, присоединяясь к экскурсионным группам в Версале, Сен-Жермен-ан-Ле и Марли-ле-Руа. Именно в этот период Джефферсон повредил запястье, пытаясь перелезть через забор в парке Кур-ля-Рен – ходили слухи, что таким образом он хотел произвести впечатление на Марию. Эта травма беспокоила его всю оставшуюся жизнь.

Из-за травмы Джефферсон был вынужден оставаться дома в течение месяца, вести переписку через секретаря и – что самое печальное – прекратить общение с Марией. Меньше чем через месяц после неприятного события она уехала из Франции вместе с мужем, оставив Джефферсона в расстроенных чувствах. «Поистине, я самое обездоленное из живых существ, – пишет он в своем письме к ней. – Переполненный горем, так что кажется, что пределы моей души растянуты им донельзя, я бы счел за счастье любую катастрофу, отнимающую способность чувствовать и бояться».
Озаглавленное «Диалог между моим рассудком и сердцем», это письмо содержит оживленный диалог между чувствами Джефферсона – «Сила моего горя разрывает меня на части!» – и более спокойной, здравомыслящей субличностью, усмиряющей его страсть к красивой замужней женщине (пусть муж и был известным бабником). На факсимиле можно заметить, что письмо написано неровным кривым почерком – ведь писал он левой рукой, – но это не умаляет накала страстей, которыми дышит бумага. Это единственное сохранившееся любовное письмо Джефферсона.
К марту 1787 года запястье Джефферсона уже позволяло ему путешествовать, но он все еще находился в меланхолическом настроении, которое сопровождало его на всем протяжении его одинокого странствия. Была ли трехмесячная поездка лекарством от разбитого сердца? «Путешествие более благотворно, если едешь в одиночку: это способствует размышлениям», – пишет он. Но по приезде в Бон он ищет компанию – нанимает гида и знатока вин, Этьена Паранта. Как и многие мужчины того времени, Парант баловался виноградарством и производством бочек, но его основной доход был связан с продажами вина: он был negociant[336], то есть покупал вино партиями от разных производителей и затем перепродавал в количестве, достаточном для коммерческой реализации. Он устроил для Джефферсона обзорную экскурсию по Кот-д’Ор, по пути заглядывая в погреба в Нюс, Поммар и Мерсо и знакомя его с винами, которые впоследствии станут его фаворитами.
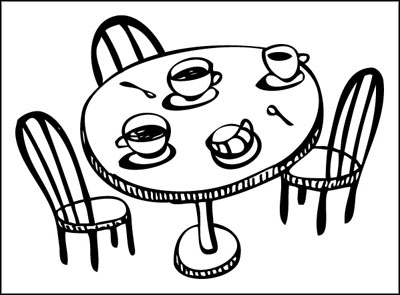
Объезжая виноградники и заходя в погреба, я попыталась увидеть регион глазами Джефферсона. Интересное наблюдение: хотя между нашими посещениями прошло более двухсот лет, представить Джефферсона здесь не составило труда. Во-первых, ландшафт вполне соответствовал его описаниям: «Холм, покрытый виноградной лозой. Лесок то там, то тут: ракитник, дрок и остролист, кое-где поставленный на скорую руку забор». Знаменитые почвы также не изменились: «добротный красноватый глинозем и песок, смешанный с галькой, иногда крупные камни». Люди были все те же: «хорошо откормленные». Ну, или излучающие ауру сытой уверенности, возникающую только благодаря благополучному прошлому предков.
Я также нашла себе консультанта по вопросам виноделия: это была Анн Парант, прямая наследница Этьена, владелица винодельни Domaine Parent, расположенной в Поммаре. Она провела меня по своей cave[337], тускло освещенному пространству с резким запахом уксуса. Мы останавливались у разных бочек, она сцеживала для нас пробу, которую мы брали в рот, смаковали и выплевывали (прямо на каменный пол).
Хотя дневники Джефферсона содержат мельчайшие детали путешествия, они умалчивают о его эмоциональном состоянии. Как и он, я путешествовала одна, и, как и он, обнаружила, что одиночество наталкивает на размышления. Думал ли он, как и я, о человеке, находящемся вдали от него? Я воображала, что он прохаживается по винодельням с Этьеном Парантом, в молчании потягивая вино из бокалов, под действием чар терруара, удивляясь тому, что счастливая звезда привела его сюда, где он может воочию насладиться красотой и историей Бургундии и искусством ее vignerons[338]. Я представляла себе, как он чувствовал благодарность за все это и одновременно тосковал по Марии, так же как я, двумя веками позже, тосковала по своему мужу. Когда действительно любишь кого-то, хочется делить с ним все радости мира.
Я приехала в Бургундию с двойной целью: продегустировать вино и попробовать местную кухню.
Вином я насладилась вполне. Но когда речь зашла о застолье, Джефферсон оказался никуда не годным проводником.
Помимо пары картофелин в Дижоне – «самые круглые картошки из всех, какие я когда-либо видел», – в его дневниках не сыскать упоминания о еде. Где, позвольте спросить, описание говядины, тушенной в темном винном соусе? Рассказы об улитках, жаренных в чесночном масле, которых затем выковыривают из раскаленных раковин с помощью специального зажима? История jambon persillade, или розовой пасхальной ветчины, украшенной свежей порубленной петрушкой и залитой желе? Разве он не ел gougeres – сырные пирожки, которые так хороши в компании белого вина? А местные сыры: мягкий, кремообразный фромаж-де-сито (его делают цистерцианцы) или упаднический влажный эпуас?
Представьте себе, не ел. А если и ел, то ничего об этом не написал. Возможно, Джефферсон, будучи практически вегетарианцем, не считал дела застольные заслуживающими упоминания. В этом, пожалуй, заключается одно из основных отличий между нами. Его путевые заметки обходят еду стороной, а в моих только о ней и речь.
Нет, для того чтобы проникнуться духом знаменитой бургундской кухни, мне нужен был другой провожатый. Тот, кто пробовал местные классические блюда, отличающиеся недюжинным разнообразием, и умело их готовил. Тот, кто, как и я, был всеяден и по-американски чувствителен. Не кто иной, как Джулия Чайлд.
В своей ставшей классической кулинарной книге «Постигая искусство французской кухни» Джулия описывает «беф бургиньон» как «одно из вкуснейших блюд из говядины, выдуманных человечеством». Она приводит проработанный в мельчайших деталях рецепт на три страницы, но тут же делает оговорку: «Для всех наиболее прославленных блюд верно то, что к хорошему результату можно прийти разными способами».
Вскоре я поняла, что Джулия высказалась об этом даже слишком сдержанно. Над тарелками с тушенной в вине говядиной шеф-повара ресторанов и домашние кулинары осыпа?ли меня противоречивыми советами, сопровождая их заговорщицким шепотом и как бы в защиту собственной версии пожимая плечами. Используйте только бургундское вино. Используйте любое вино хорошего качества. Добавьте немного уксуса в маринад. Пффф… он использует маринад? Бекон добавляет чудесный копченый аромат. Бекон я не кладу никогда. Моя мать делает беф бургиньон лучше всех. Моя бабушка – профи. Мой беф бургиньон – лучший. Джулия Чайлд была бы рада узнать, что дебаты по поводу беф бургиньон продолжаются с неослабевающим накалом.
Независимо от частностей все признают, что это блюдо – деревенское, со скромным прошлым (настолько, насколько скромным может быть прошлое мясного блюда). Раньше мясо было редкостью и ценилось дороже, чем вино, которое до нашествия виноградной тли производилось во всех регионах Франции (лоза росла повсеместно и заканчивалась лишь у ворот Парижа). Экономные повара, желающие использовать все животное целиком, скоро поняли, что твердые куски, такие как paleron[339] или шейная часть, становятся нежнее, если их тушить с вином на медленном огне.
По мере того как я перемещалась от покрытых лозой холмов Кот-д’Ор и уезжала все дальше на юг к широким плоским равнинам Шароле, происхождение «беф бургиньон» становилось все очевиднее. Именно там я смогла лицезреть другой знаменитый продукт Бургундии, который мирно пасся на тучных лугах группами по две-три головы: шаролезских коров.
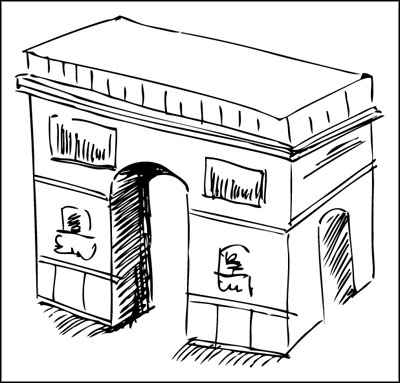
По местной легенде, крестоносцы привезли этих снежно-белых бычков из своих заморских походов в XVI веке и использовали нехитрые методы скрещивания для того, чтобы создать породу мощных сельскохозяйственных животных. В 1747 году слава их мясистых боков вышла за пределы региона, когда один фермер в целях рекламы привел свое стадо на рынок Пуасси в пригороде Парижа (знаменитое путешествие заняло ни много ни мало семнадцать дней). К 1770 году стада шаролезских коров маршировали непрерывной очередью из Бургундии в Париж. «Они шли вдоль Луары через Невер и Орлеан», – сказал мне Фредерик Бушо, директор городского музея города Шароль, Maison du Charolais, посвященного этой породе коров. К концу XIX века шаролезский скот распространился по всей Франции. На сегодняшний день этих коров держат и в других странах, в частности в США, Канаде и Австралии, сохраняя породу в чистоте или скрещивая с другими породами.
В 2010 году boeuf de Charolles – говядина, полученная от шаролезских коров, выращенных в регионе Шароле, – получила почетное наименование appellation d’origine controlee[340]. Согласно cahier des charges[341], животные должны пастись на сочных травах региона с марта по ноябрь и содержаться в помещении в зимние месяцы. Их забивают в возрасте шести лет вместо обычных пяти, благодаря чему они дольше растут. В результате мы имеем увесистые ломти говядины, ценимые знатоками за легкую мраморность и превосходные вкусовые качества.
С балкона на верхнем этаже Maison du Charolais мы с Бушо озирали тучные пастбища региона, разделенные живыми изгородями и испещренные белыми точками пасущихся коров. Животные были основным лейтмотивом ландшафта, так же как виноградники в Кот-д’Ор.
«Можно ли сказать, что мясо является символом Бургундии?» – спросила я Бушо, любуясь видом.
Он задумался: «Пожалуй, вино – более привлекательный предмет».
В своих мемуарах, озаглавленных «Моя жизнь во Франции», Джулия описывает поездку в Бургундию с мужем Полом Чайлдом в 1949 году. Они останавливались в равнинных городах, названия которых звучат подобно колокольному перезвону: Монтраше, Поммар, Вужо, Вольнэ, Мерсо, Нюи-Сен-Жорж, Бон. Здесь она не упоминает о «беф бургиньон», но я вспоминала Джулию всякий раз, когда ела это блюдо в Бургундии, восхищаясь тающей во рту говядиной и терпким вкусом соуса и постепенно формулируя собственный рецепт, начисто вытирая тарелку ломтиком хлеба.
Рецепт «беф бургиньон» от Джулии Чайлд был мне известен с детских лет: отец готовил это блюдо по праздникам. Я сидела на кухне и смотрела, как он орудует большим китайским мясницким ножом, вопя: «Поруби чеснок, папочка!», когда нож опускался на неочищенный зубчик чеснока. Со временем он объединил рецепт Джулии с вычитанным в журнале Sunset рецептом тушеного мяса и добавлял в винный соус черные оливки и апельсиновую цедру. Тем не менее ее книга в обложке с геральдическими лилиями была для него первоисточником информации о французской кулинарной технике. Она содержалась на почетном месте в нашем книжном шкафу и была незыблемым авторитетом в отношении времени и температуры приготовления, необходимых кухонных приспособлений, способа очистки артишока или выкладывания формы для шарлотки печеньем «дамские пальчики».
Мне редко разрешали смотреть телевизор, но кулинарные шоу были исключением – они считались познавательными. Мы с папой иногда вместе смотрели шоу Джулии, вдохновляясь ее уверенными четкими инструкциями. Мне было около тринадцати лет, когда родители пригласили друзей на пятничный ужин, и мы с отцом решили приготовить на десерт суфле «Гран Марнье». Я приготовила основу до прихода гостей: замешала муку с подогретым молоком, добавила яичные желтки и наблюдала, как крем загустевает на медленном огне. Я натерла кубики сахара кожурой «ярко-оранжевого апельсина», как описано у Джулии, и на моих пальцах остался цитрусовый туман. В середине ужина папа толкнул меня локтем, и мы незаметно удалились на кухню, где взбили яичные белки и добавили их в тесто. Миксер жужжал изо всех сил, заглушая разговоры в гостиной, но, несмотря на все мои усилия, белки отказывались превращаться в густую пену. Видимо, пластмассовая миска была недостаточно сухой.
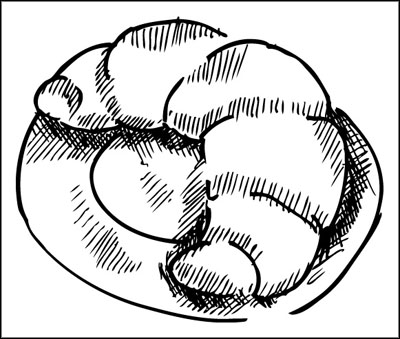
«Что бы сделала Джулия?» – спросил папа.
«Начала бы все сначала?»
«Она не перфекционистка».
«Использовала бы как есть», – неохотно признала я. Так что мы добавили вялое облако белков в подогретое тесто, перелили его в посыпанную сахаром форму и поставили ее в духовку. Слово souffle переводится с французского как «дыхание». Похоже, что блюдо назвали «суфле» по той причине, что сидишь, затаив дыхание, все двадцать минут, пока оно находится в духовке? Звякнул таймер, и мы кинулись доставать. Золотистая поверхность суфле уже поднялась чуть выше края формы, но объем был неустойчивый, шаткий и ненадежный. Когда мы сняли блюдо с огня, суфле начало стремительно съеживаться, падая, как настроение подростка. «Подавай! – поторопил отец. – Немедленно!»
Мы понеслись с формой в гостиную и разложили суфле по тарелкам. Консистенция была хоть плачь – как пористый пудинг с прилипшим сахаром по краям, а не как воздушное облако, – но апельсиновый аромат был ярким и сладким, почти цветочным, с алкогольным придыханием ликера Гран Марнье. «Мммм!» – воскликнула миссис Чанг, девяностотрехлетняя свекровь подруги мамы Жанет. До сего момента она была весьма разборчива в еде, приготовленной отцом, – когда тебе девяносто три, аппетит, видимо, уже не тот, – но теперь жадно накинулась на десерт.
«Вам нравится? Это Анн приготовила!» – похвастался мной отец. Она улыбнулась, но я не была уверена, что она поняла его слова. С умом у миссис Чанг было все в порядке – остер, как лезвия овощерезки «мандолина», – но дело в том, что она не говорила по-английски, а отец – по-китайски.
Когда ужин был окончен, я встала, чтобы собрать тарелки, и наклонилась рядом с неестественно черной головой миссис Чанг, чтобы забрать большое блюдо из-под десерта. Тут мое запястье ухватила цепкая рука, удивившая меня неожиданно твердой хваткой. Голос сказал что-то по-китайски. «Она хочет, чтобы ты оставила, – сказала мама. – Оставь тарелку».

Я поставила тарелку перед ней, и все за столом наблюдали за тем, как миссис Чанг выскребает мое несовершенное суфле своей ложкой до последнего кусочка. В этот момент в моей голове прозвучал голос Джулии Чайлд: высокие ноты, с оттенком сумасшедшинки, незабываемый голос. Она сказала: «Никогда не извиняйся».
Так Джулия вдохновила меня в первый раз – как осторожный, методичный учитель, разбивающий рецепты на мельчайшие шаги, демонстрируя, что можно приготовить самые сложные блюда, если тщательно выполнять инструкции. А если что-то шло не так – а что-то всегда идет не так, – то она просто махала рукой на ошибку и подавала блюдо в любом случае, не извиняясь и не смущаясь.
Второй раз был несколько лет спустя, во время холодной промозглой зимы – моей первой зимы на Восточном побережье. Я только что окончила колледж в Калифорнии и переехала в Бостон, где нашла работу ассистента в издательстве. Я жила в едва отапливаемой квартире с соседями, которых нашла по объявлению в Boston Globe, зарабатывала $18,500 в год и перебивалась с риса на фасоль. Моим основным развлечением была городская публичная библиотека: здесь-то я и нашла биографию Джулии Чайлд, написанную Ноэлем Райли Фитчем и озаглавленную «Аппетит к жизни»[342].
На суперобложке книги лицо Джулии казалось моложе и угрюмее, чем ее образ на телевидении. Я снова и снова возвращалась к фотографии по мере чтения; меня увлекла история, сейчас уже ставшая притчей во языцех: нескладное девичество в Калифорнии, цепочка неудачных карьерных выборов, работа под грифом секретности в Офисе стратегических служб (предшественник ЦРУ), должность в Китае во время Второй мировой войны, роман с Полом Чайлдом, их назначение в Париж, ее гастрономическое увлечение и успех, пришедший в поздние годы жизни.
История Джулии полюбилась мне тем, что в ней готовность начать все заново сочеталась с решимостью.
Но мне было двадцать три, и я еще не проложила свой курс. Лишь через несколько лет я почувствую резонанс с историей Джулии, когда на своем опыте испытаю силу обстоятельств и их способность побуждать к трансформации или смене направления.
Для Джулии таким обстоятельством был ее муж. После замужества ее жизнь воссияла: вместо секретарской работы и плохой еды – страсть и гастрономические изыски. Муж был любовью всей ее жизни, за ним она последовала во Францию, он вдохновлял ее на кулинарные подвиги. «Моя карьера не состоялась бы без Пола Чайлда», – пишет она в книге «Моя жизнь во Франции».
Перед переездом в Китай моя подруга Эрин, жена одного из коллег Кельвина по международной службе, предупредила меня, что будет несладко. «Приготовься к тому, что попадешь в 1950-е», – сказала она. Я кивнула, хотя понятия не имела о том, что она имеет в виду. Но, оказавшись в Пекине, я в полной мере осознала смысл ее слов. Я осознала его на ориентировочном курсе лекций в посольстве, где на моем бейдже стояла фамилия мужа. Я осознала его на утренних кофейных посиделках, устраиваемых для членов семей дипломатов (почти все были безработными женщинами): несколько часов пустых разговоров, затем ланч и покупки. Я осознавала его каждый раз, когда хозяйка нашей квартиры с кем-нибудь меня знакомила, представляя меня не как «Анн», а как «жену Кельвина-из-дипломатических-кругов». Я осознавала это, когда люди на званых обедах спрашивали меня, чем я занимаюсь, а я могла только бормотать что-то невразумительное по поводу прошлых мест работы.
Хотя мне очень нравилось быть замужем за Кельвином и я наслаждалась нашей уютной, самобытной домашней жизнью, но будние дни тянулись для меня бесконечной и бесцельной чередой. О, у меня было много дел: готовка, уборка, достопримечательности, обеды – но в этих занятиях я теряла себя, потому что вся жизнь в целом определялась работой Кельвина, а не моей. Да, я знаю, что это очень по-американски – связывать свою идентичность и самооценку с карьерой. Но я – американка, я воспитана матерью-иммигранткой, вернувшейся к работе в больнице через несколько недель после моего рождения. Сама мысль о том, что мне придется провести остаток жизни не работая, была подобна ампутации конечности.
Однако мой муж был дипломатом, а это слово буквально означает: частые международные переезды. Любой человек, сопровождающий супруга в международных поездках, знает, что ничто не является бо?льшим препятствием твоей карьере. Некоторое время я морально разлагалась в кафкианском экзистенциализме. Но по крайней мере у меня были товарищи по несчастью. Дипломатию называют второй древнейшей профессией, а это означает, что с шестнадцатого века – а может быть, и раньше – другие посольские жены переживали такие же экзистенциальные кризисы, прозябая в неизвестности, в то время как достижения их мужей попадали в историю. Возможно, именно в этот момент Джулия вдохновила меня в третий раз, не только из-за того, что она увлекалась кулинарией, жила в Китае и была «супругой на буксире», так же как и я, – но потому что я искала подтверждение тому, что профессиональный успех и брак с дипломатом не являются взаимоисключающими явлениями.
Дипломатическая миссия Пола была причиной, по которой супруги переехали в Париж в 1948 году; это было задание, благодаря которому Джулия была окружена лучшей в мире едой и встала на путь своей собственной легендарной карьеры. Но в то время она еще не знала, что все повернется именно так. Вкалывая на курсах Кордон Бле в подвальном классе, работая над усовершенствованием фундаментальных «материнских» соусов[343] и песочного теста, она понятия не имела, что однажды будет демонстрировать свои умения на американском телевидении перед миллионной аудиторией. Нет, она тренировалась, потому что эти соусы лежат в основе традиционной французской кулинарии и потому что она была настроена – серьезно, глубоко настроена – на ее изучение.
Джулия полюбила Париж. «Я никогда не смогу найти место, более соответствующее моим вкусам», – писала она. Она была без ума от местных рынков и кафе, а также от того, как легендарные памятники архитектуры, такие как Нотр-Дам, неожиданно выплывают из туманной дымки. Она начала давать уроки кулинарии и в сотрудничестве с двумя француженками – Симон Бек и Луизетт Бертоль – работать над книгой, которая впоследствии будет издана под заглавием «Постигая искусство французской кухни» – крупномасштабный проект, занимавший ее внимание на протяжение десяти лет. Но международные назначения рассчитаны лишь на несколько лет. В 1953-м Чайлды переехали в Марсель, а затем жили в Бонне, Вашингтоне, Осло и Кембридже (штат Массачусетс) – шесть переездов за тринадцать лет. И с каждым переездом – новый дом, новые друзья, новое окружение, новая жизнь.

У Джулии был проект и был свой путь, но, читая ее письма, я чувствовала ее беспокойство: «С точки зрения карьеры в области кулинарии (это) настоящий удар», – писала она своей подруге и литературному редактору Авис Де Вото о переезде в Марсель. Или: «Этот переезд нам обоим поперек горла», – когда они с Полом упаковывали вещи, чтобы ехать в Бонн. Или: «Сколько ни настраивай себя на то, что придется адаптироваться к новой культуре, а реальность всегда требовательнее, чем ожидаешь», – по приезде в Осло.
Я понимала, о чем она говорит, так как сама ощущала это беспокойство, атомным грибом взрывающееся в моей голове при обсуждении с Кельвином следующего переезда, когда мы изучали списки открытых дипломатических вакансий и пытались из имеющихся альтернатив выбрать место, в котором мы оба могли бы найти интересную работу, учитывая абсолютную разноплановость наших профессий. Мне очень повезло: я нашла собственный путь, который прокладывала и по которому постепенно карабкалась, на котором меня ожидали маленькие победы и болезненные поражения. Я знала, что мне повезло с моей «переносной» любимой работой, которая лишь выигрывала благодаря нашему кочевому стилю жизни и была возможна лишь при эмоциональной и материальной поддержке Кельвина. И тем не менее каждый переезд открывал суровую правду – не все можно упаковать в коробки и положить в транспортный морской контейнер: контакты по работе, друзья, источники вдохновения, повседневные радости, составляющие мою жизнь, – все это оставалось позади.
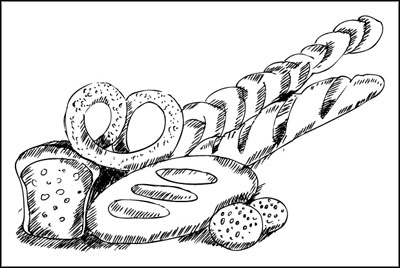
Иногда мне казалось, что это благоприятное обстоятельство; иногда было чувство, что на меня наложено судебное наказание. Иногда я ощущала себя движимым имуществом мужа, пунктом в перечне его официальных обязательств; иногда – что мы команда, что поодиночке мы слабее, чем вместе. И всегда мне на ум приходила Джулия, с ее отрывистым самоироничным тоном в моменты меланхолии: «Беда!», «Се ля ви!», «Горе мне!».
Джулия и Пол уехали из Франции в 1954-м, расставание с этим городом она описывает в мемуарах как «болезненное» (хотя, в своей обычной манере, уже в следующем абзаце с энтузиазмом рассказывает о «всамделишном американском бифштексе»). Я сочувствовала ее печали, потому что ощущала ее сама. С того самого момента, как мы узнали о предстоящем переезде, меня пугал момент предстоящего расставания с Францией. По возвращении Кельвина из Багдада у нас оставалось еще два года в Париже, а затем нас ожидал следующий переезд. И затем снова и снова, каждые три-четыре года, пока он не выйдет на пенсию.
«Это карьера Пола, и если таково его желание, мы должны смириться с резкими переменами, – писала Джулия своей подруге Авис. – Беда в том, что мы оба ненавидим переезды. На каждом новом месте мы врастаем в землю всеми своими потрохами, как если бы обосновывались на века». Я задавала себе вопрос: мечтала ли Джулия о доме, о месте, которое не надо было бы упаковывать в коробки каждые тридцать шесть месяцев, где она знала бы, как скрипит каждая досочка в полу, где она могла бы включить чайник и приготовить чашку чая, не включая свет на кухне; где дети, которых у нее не было, оставляли бы следы маленьких ног в коридоре; место, переполненное счастливыми призраками многочисленных ужинов, приготовленных ее руками. Постоянное место. Дом.
Есть стихотворение, которое я вспоминаю каждый раз, когда тоска по оседлости грызет меня особенно свирепо: стихотворение Тумаса Транстремера[344] «Синий дом». Автор размышляет о том, что могло бы произойти в жизни, но не произошло.
Здесь всегда так рано, еще нет перекрестков, нет бесповоротных решений. Благодарю за эту жизнь! Но альтернативы не дают покоя.
Они не давали покоя и мне. Дом, который существовал только в моем воображении. Стены прихожей покрыты сумасшедшими обоями с мелким пасторальным рисунком. Кухня, увешанная чугунными сковородками. Парикмахер, знающий, какое мороженое любит моя дочь. Друзья, случайно заскочившие в гости и оставшиеся на ужин. Визитки, которые можно заказывать десятками тысяч. Коллеги, пекущие морковные пирожные на мой день рождения. И, возможно, карьера в офисе – не писательская карьера. Долгие уик-энды во Флориде, не в Луангпхабанге[345]. Никаких опубликованных книг, незнание второго и третьего иностранного языка. Вполне возможно, никакого Кельвина.
Девять лет назад я встретила Кельвина и выбрала жизнь в странствиях, отказавшись от оседлого образа жизни. Решение было принято, и большую часть времени, погруженная по колено в прекрасные и запутанные мелочи нашей жизни, я не жалела о нем. Но когда наступали трудные времена, когда мысль о переезде в другую страну и изучении чужого языка казалась утомительной, а не восхитительной, когда на мои пятки наступало одиночество в новой квартире, когда мы с Кельвином не могли прийти к компромиссу по поводу места очередного назначения и ссорились – с какой легкостью в такие моменты приходили мечты о другом, устойчивом мире, где мало что могло измениться. Такой мир представлялся широко распахнутым, предоставляющим богатые возможности для настоящей дружбы, для заполнения чердака до отказа, для развития карьеры благодаря тому, что каждый день встречаешь одного и того же нужного человека в магазинчике рядом с домом.
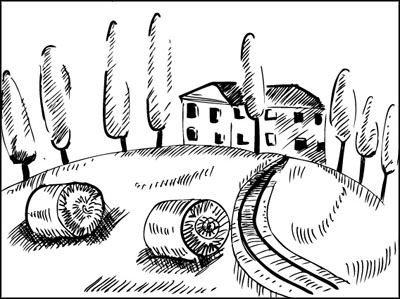
Но когда я спускалась с небес на землю, то понимала, что трудно представить более широкие горизонты, чем те, которыми я обладаю в реальности. Я была замужем за приключениями и одновременно пришвартована в тихой гавани любви. Именно любовь к Кельвину – и его любовь ко мне – заставила меня выбрать бродячий образ жизни. Именно любовь давала силы поддерживать друг друга, прислушиваться друг к другу и приходить к компромиссам – как в случае решения о его годовом назначении в Багдад, – от которых было неуютно, но которые в конечном итоге оказывались наиболее удачными вариантами из возможных. У нас с Кельвином не было постоянного адреса, но весь мир был нашим домом. Мы оставляли след в каждой стране, которую покидали, и, наверное, благодаря этому вместе мы были сильнее и каждый становился сильнее как личность.
Конечно, та параллельная реальность все время маячила где-то поблизости – она всегда будет рядом со мной, такая же радостная и захватывающая, как и моя всамделишная жизнь. Иногда я представляю ее бледной и схваченной холодом, освещенной отраженным светом луны, а не солнцем реальности, – корабль-призрак, прокладывающий курс к тому, что могло бы быть, в то время как я оставалась в потоке того, что есть.
Замок Кло-де-Вужо – высокомерная постройка, которая не может быть не чем иным, кроме за?мка: внушительных размеров каменное изваяние, возвышающееся над холмами, покрытыми ухоженными виноградниками Кот-де-Нюи. Эта винодельня, основанная в XI веке тонкопалыми руками монахов-цистерцианцев, в свои лучшие дни производила пятьдесят тысяч бутылок в год – целый океан вина для того времени. В 1787 году Томас Джефферсон остановился здесь, чтобы познакомиться с феноменальным производственным процессом, придуманным монахами, лелея мысль о том, чтобы перенести их практики в Соединенные Штаты. Через несколько лет он попросит своего консультанта по вопросам виноделия Этьена Паранта положить черенки бургундской лозы в посылку с грузом вина, чтобы попытаться культивировать их на почвах Виргинии.

В наше время в замке находятся музей и конференц-центр, а также штаб Братства шевалье Тастевен[346] – престижного клуба ценителей вина. Но остались и следы производственной деятельности монахов в виде огромных прессов для винограда пятнадцатого века на экспозиции в крытом дворе, пещеристых бродильных чанов, установленных в cuverie[347], а также внушительных масштабов погреба на первом этаже, способного вместить две тысячи бочек.
В 1790 году, через несколько лет после посещения Джефферсона, Французская революция выселила монахов из замка и конфисковала церковную собственность. Замок переходил от одного собственника к другому, пока в 1889 году 50 гектаров, относившихся к винодельне, не были отмежеваны от здания, поделены на части и проданы нескольким производителям. Сейчас земельный участок делят между собой восемьдесят собственников. Монахов здесь нет уже давно. Их cuverie и cave, где они трудились не покладая рук, иссушены веками. Двести двадцать пять лет, эпидемия вредителей лозы и несколько войн отделяют нас от визита Джефферсона. И тем не менее замок Кло-де-Вужо остается символом Кот-д’Ор. Фактически это консульство бургундского виноделия в лице двенадцати тысяч членов Братства шевалье Тастевен.
Однажды после обеда я посетила замок, чтобы встретиться с лидером братства Ришаром Фюсснером и шеф-поваром Оливье Уолшем. Мы расположились в одном из совещательных залов эпохи Ренессанса, в то время как члены братства бесцельно слонялись по мощенному гравием двору, время от времени выкрикивая припев военного клича Бургундии «Ban de Bourgogne», сопровождаемого притопами, прихлопами и соответствующими жестами.
«Миссия Братства – продвижение продуктов Бургундии, защита виноградарства, а также распространение специфического art de vivre»[348], — сказал Фюсснер, в то время как монотонные завывания хора продолжали доноситься из окна. «Членство в Братстве автоматически делает человека пропагандистом бургундского вина, культуры и кухни».
В 1930-х годах, когда из-за Великой депрессии торговля бургундскими винами пошла на спад, два предпринимателя-винодела из Кот-де-Нюи задумали создать винный клуб по образу и подобию вакхических обществ семнадцатого и восемнадцатого веков. Братство было основано в 1934 году под девизом «Jamais en vain, toujours en vin» (Никогда напрасно, всегда с вином) и распространяло лучшие марочные вина в миру, чтобы о Бургундии узнало как можно больше потенциальных покупателей, надеясь таким образом вывести продажи на международный уровень.
В 1944-м Братство сделало своим штабом замок Кло-де-Вужо, отреставрировав и даже улучшив его аскетичные интерьеры: там, где монахи жили в спартанской простоте, появились роскошные банкетные залы. (В одной из бывших монашеских столовых, реставрированных в первозданном виде для музейной экспозиции, стоят длинные деревянные столы, скамьи и кафедра проповедника, что свидетельствует об аскетическом образе жизни монахов: один из братьев читал отрывки из Библии, в то время как остальные ели жидкую кашу в вынужденном молчании.) Сейчас Братство – это международная организация с филиалами на пяти континентах. Его члены собираются в замке шестнадцать раз в год на chapitre banquets[349]. Обязательная форма одежды – черный галстук, на шее – маленькая плоская серебряная чаша на широкой полосатой ленте. Это tastevin (произносится «тат-вэн») – чаша, которую раньше использовали для дегустации вина.
У бургундского вина и дипломатии долгая история, которая берет начало в XVI веке, когда герцог Бургундский Филипп Смелый (ярый приверженец Пино-Нуар) возил за собой по всей Франции и Фландрии бочки вина, чтобы вносить дух веселья в банкеты и таким образом укреплять свои позиции за столом переговоров. Бургундское вино также использовалось для того, чтобы втереться в доверие (или подкупить), как в случае Жана де Бюссьера, аббата Сито, который в 1359 году отправил тридцать бочонков Кло-де-Вужо папе римскому Григорию XI. Четыре года спустя он был назначен кардиналом.
Томас Джефферсон также осознавал политическую силу вина.
Хотя в молодости он, бывало, опрокидывал чарку мадеры или портвейна, но отказался от того и другого, когда выступил против британского колониального правления, отрекшись от культуры англичан, предпочитавших крепленые вина и многословные тосты. «Вкусы наших сограждан сформированы искусственно путем длительного ограничения британским правлением закупок иных вин, кроме крепких португальских и испанских», – писал он. Всю оставшуюся жизнь он употреблял и подносил гостям лишь легкие вина Франции и Италии в надежде, что соотечественники последуют его примеру.

Тем временем шеф Уолш затеял дискуссию по поводу «беф бургиньон», пытаясь отыскать причины всемирной популярности этого блюда. Можно ли рассматривать это блюдо как очередного посла, пропагандирующего Бургундию с помощью двух наиболее характерных ее продуктов: вина и говядины?
«Я использую говяжью щековину, – сказал он, добавив с ноткой вызова, на которую способен лишь французский шеф-повар с классической подготовкой: – Рецепт должен жить! Это форма глобализации на тарелке».
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
Глава 1
Глава 1 Перед тем как встать на весы, надо все взвесить Начало у этой книжки будет обычным, распространенным до банальности. Ах, как много нас, симпатичных, целеустремленных, решительных терялось при одной лишь мысли о коварном аппарате под названием «весы»!Уже на
Глава 2
Глава 2 Откуда что взялось Если мы заглянем вглубь веков, то обнаружим, что колыбель средиземноморской модели питания находится в Египте. Считается, что именно египтяне стояли у истоков ее базового набора продуктов. Позже эти же продукты и ингредиенты получили широкое
Глава 4
Глава 4 Что бы такое съесть? Все-таки, что ни говори, похудание – это весьма сложное занятие. Не верьте тому, кто скажет, что это не так. Этот человек никогда не избавлялся намеренно от лишних килограммов.Что подразумевает слово «похудеть»? В большинстве случаев оно может
Глава 5
Глава 5 Жизнь в движении Во время одной из своих встреч с диетологом, недоумевая по поводу того, что вес мой застрял на одном месте и никак не хотел снижаться, несмотря на все мои усилия, я сказала: «Ничего не понимаю! Ведь в спортзале я занимаюсь два раза в неделю по
Глава 6
Глава 6 Сиеста: сон в летний день «Обязательно нужно вздремнуть между обедом и ужином. Причем отдыхать нужно, удобно устроившись на кровати, сняв одежду. Заблуждаются люди, которые полагают: те, кто спит днем, меньше работают. После сиесты у человека всегда появляется
Глава 7
Глава 7 Солнечное коварство Одна моя подруга, впервые побывавшая в отпуске на испанском острове Майорка, вернувшись домой, под родное северное небо, сказала: «В Испании никакой макияж тебе не нужен. Проснулась утром – и уже красивая».Безусловно, доля истины в этом есть –
Фондю бургиньон
Фондю бургиньон Приготовить соусы и налить их в индивидуальную посуду: соус майонез с коньяком или виски, пикантный соус, соус с хреном, томатный с добавлением сметаны (См. «Соусы»). Нарезать ромштексы кубиками по 2 см и разложить по тарелкам. Нагреть растительное масло с
ГЛАВА 7
ГЛАВА 7 НЕТРАДИЦИОННЫЕ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ БЕЛОГО ВИНАБелое вино — поистине чудодейственный напиток. Недаром его так высоко ценили во все времена. Издавна оно занимало одно из почетных мест на любом праздничном столе, без него не обходилось ни одно торжество. Застолье с
Сэндвичи «Бургундия»
Сэндвичи «Бургундия» Ингредиенты: Булочки пшеничные – 2 шт., фарш мясной – 100 г, яйца – 2 шт., перец сладкий маринованный – 1 шт., масло сливочное – 2 ст. ложки, майонез – 1 ст. ложка, горчица – 1 ч. ложка, зелень петрушки. Способ приготовления:Сваренные вкрутую яйца
Нормандский гуляш бургиньон с лапшой
Нормандский гуляш бургиньон с лапшой Ингредиенты: 750 г филе говядины, 100 г бекона, 2 зубчика чеснока, 500 г. лука – шалота, 1 ст. ложка муки, 2 ст. ложки сливочного масла, 500 г шампиньонов, соль, молотый черный перец, 50 г томатной пасты, 625 мл красного вина, 300 мл бульона, 1 ч. ложка
Бёф бургиньон
Бёф бургиньон Говядина (мякоть задней ноги) 2 кгОливковое масло 100 гМорковь 3 шт.Чеснок 1 головкаЛук-шалот 4 шт.Лавровый лист 4 шт.Сухие прованские травы 5 гКрасное сухое вино (типа бордо) 700 млВода 2 лКартофель 10 шт.Соль, перецВремя приготовления – 4,5 чКалорийность – 213
Бёф бургиньон
Бёф бургиньон Говядина (мякоть задней ноги) – 2 кгОливковое масло – 100 гМорковь – 3 шт.Чеснок – 1 головкаЛук-шалот – 4 шт.Лавровый лист – 4 шт.Сухие прованские травы – 5 гКрасное сухое вино (типа бордо) – 700 млВода – 2 лКартофель – 10 шт.Соль, перец 4,5 ч 213 ккалГовядину
Сэндвичи «Бургундия»
Сэндвичи «Бургундия» Булочки пшеничные – 2 шт., фарш – 100 г, перец болгарский маринованный – 1 шт., масло сливочное – 70 г, яйца – 2 шт., майонез – 2 ст. ложки, горчица – 1 ч. ложка, зелень.Яйца варят вкрутую, очищают и мелко нарезают. Перец нарезают кубиками, смешивают с фаршем,